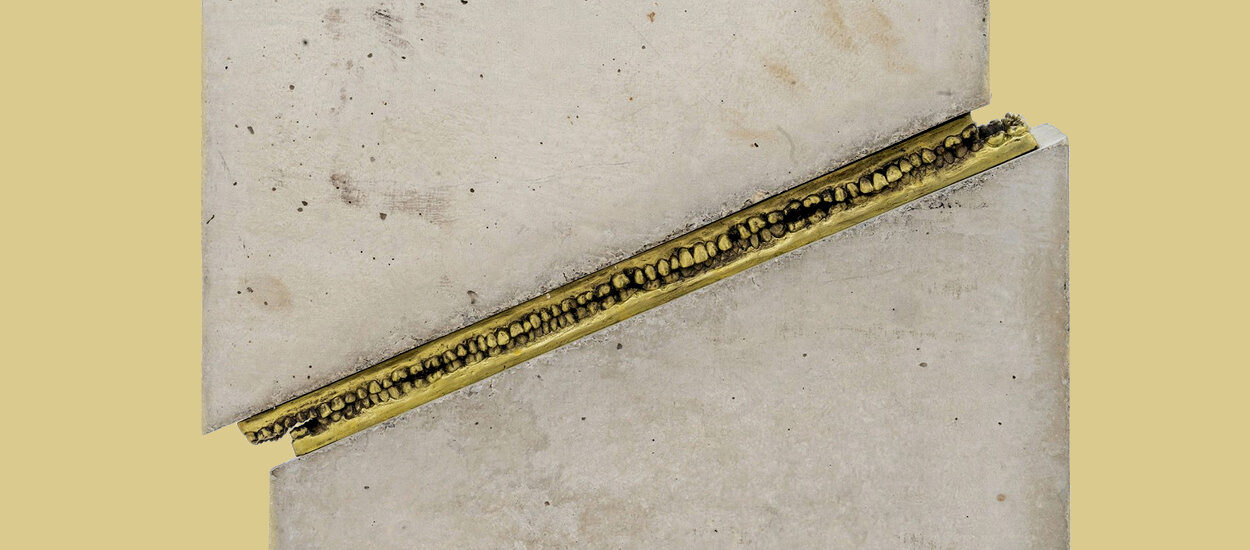Девические
Господи, разве словá
на этой груди не сила?
Она их давно носила,
но делала, как дрофа:
держала слова в себе
и мёрзла вокруг и рядом,
когда её можно взглядом,
как меткостью при пальбе,
ожечь и осечь. Но нет:
не видите, не хотите.
Так вот вам слова в петите,
вчитайтесь же в силуэт.
Такие русские
Это, кажется, русский, вот буква Ж.
Дант сосёт, когда я продолжаю букву:
жубы выпали… выбиты в долбеже
головой о скалистую стену: в брюкву
для айнтопфа её во втором кругу
превращали менты, для которых жубы
в первом невыносимы, спросите у
старшины дяди Стёпы, ответит: нонсенс.
Нелёгкие
Мама жрала картошку
дó смерти понемножку, —
Господи понемножку
ей отпускал картошку.
Мама… жрала? не ела?
жадно и много? Верно:
падко, но мало — тело
мамино, Олоферна
обезоружив, больше
не принимало маму:
ужас, однажды вползши,
выжрал её помалу.
Господи, разве словá
на этой груди не сила?
Она их давно носила,
но делала, как дрофа:
держала слова в себе
и мёрзла вокруг и рядом,
когда её можно взглядом,
как меткостью при пальбе,
ожечь и осечь. Но нет:
не видите, не хотите.
Так вот вам слова в петите,
вчитайтесь же в силуэт.
Такие русские
Это, кажется, русский, вот буква Ж.
Дант сосёт, когда я продолжаю букву:
жубы выпали… выбиты в долбеже
головой о скалистую стену: в брюкву
для айнтопфа её во втором кругу
превращали менты, для которых жубы
в первом невыносимы, спросите у
старшины дяди Стёпы, ответит: нонсенс.
Нелёгкие
Мама жрала картошку
дó смерти понемножку, —
Господи понемножку
ей отпускал картошку.
Мама… жрала? не ела?
жадно и много? Верно:
падко, но мало — тело
мамино, Олоферна
обезоружив, больше
не принимало маму:
ужас, однажды вползши,
выжрал её помалу.