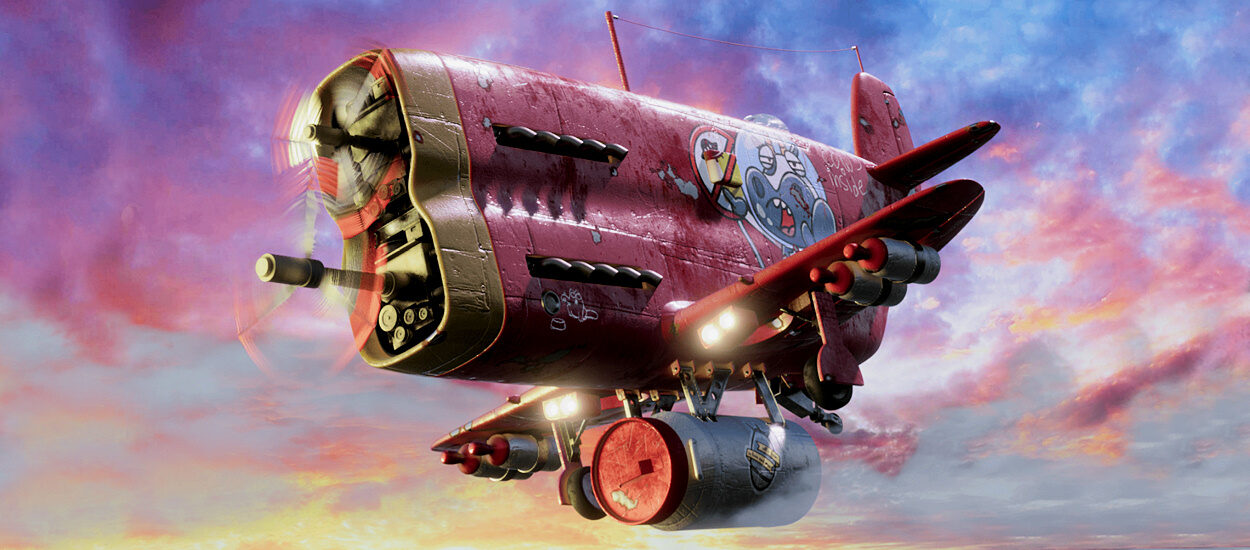Иван-дурак упрямый, я три года
и тридцать лет работал напролом
не что-нибудь, но штуку, над лесото
с заснеженным крещёным барахлом
которая поднимется — и хóду
туда, где «Краткий курс» Ньютóна смех
рождает у детей и позевоту —
у взрослых, выворачивая всех
настолько, что валя́тся оземь пломбы.
Где крылышкуют, а Ньютóн смешной,
где воля — всё, а все высоколобы,
не знаю, но узнаю, стороной
минуя ненаглядное лесото,
вот только оторвусь… Отрыв прошёл
прекрасно, даже «рас»: крещёных рота
стреляла, да впустую, — пламень цвёл,
и штука ускользала за пределы.
Промазавших отправят в лагеря.
Меня, когда я свержусь, оголтело
крещёные потопчут и, соря
моими позвонками, в ту же зону
из человеколюбия снесут:
я перестал молиться, и резонно
взбрыкнула штука, и потёк мазут,
и тяга стала детской, ниже крыши,
и, может быть, нарсуд уже занёс
для приговора руку: «…не колышет,
что смертной нет, ведь авитаминоз
его не укокошит…», уж лесото
заснеженным стрелкам вскричало: «Пли»,
но «Отче мой!..» — я закричал, и Кто-то
исправил всё. Лечу над сомали.
и тридцать лет работал напролом
не что-нибудь, но штуку, над лесото
с заснеженным крещёным барахлом
которая поднимется — и хóду
туда, где «Краткий курс» Ньютóна смех
рождает у детей и позевоту —
у взрослых, выворачивая всех
настолько, что валя́тся оземь пломбы.
Где крылышкуют, а Ньютóн смешной,
где воля — всё, а все высоколобы,
не знаю, но узнаю, стороной
минуя ненаглядное лесото,
вот только оторвусь… Отрыв прошёл
прекрасно, даже «рас»: крещёных рота
стреляла, да впустую, — пламень цвёл,
и штука ускользала за пределы.
Промазавших отправят в лагеря.
Меня, когда я свержусь, оголтело
крещёные потопчут и, соря
моими позвонками, в ту же зону
из человеколюбия снесут:
я перестал молиться, и резонно
взбрыкнула штука, и потёк мазут,
и тяга стала детской, ниже крыши,
и, может быть, нарсуд уже занёс
для приговора руку: «…не колышет,
что смертной нет, ведь авитаминоз
его не укокошит…», уж лесото
заснеженным стрелкам вскричало: «Пли»,
но «Отче мой!..» — я закричал, и Кто-то
исправил всё. Лечу над сомали.