Господи, это молитва, и эта молитва остра.
Господи, я тут чужой, но я вышел за хлебом
(хлеба здесь нет, есть агдам, он бухло, но добра
мне и не надо иного для тюри под небом;
небо тут есть, это всё, что тут есть, кроме трав;
травы растут, растут сами и сныть, и калина;
вот те и тюря: полынь-лебеду проницав
взглядом-попрёком «а ну, не душите, не глина ж»,
ими приправишь, агдамом зальёшь и живёшь
кум-королём). Этот хлеб нарасхват, ибо жажда
хлеба великая есть. Всякий в клёшах, и нож
всякий с собою таскает и режет — и дважды:
чтобы отнять кошелёк и добыть себе хлеб,
а во вторóй раз — из пáвловских лучших резонов:
для воспитанья повадки: пырнул, — и окреп,
зарубцевался, став нормою для миллионов,
этот порядок вещей: не пырнуть — а вдохнуть,
нож отереть о другого не прихоть — а выдох.
Господи, хочешь — втыкай этот нож в мою грудь
снова, и снова, и снова хоть в ноны, хоть в иды,
только позволь, позволь мнé, не молчать — но орать
в недоумении, злости и к смирным собакам
рваться на помощь. Господь, ты отец мой и мать,
дай мне силёнок не видеть волчару во всяком. 
-

Мусковские старости
- ЗИМА
- 02.02.2026
-

Грех повторения
- ЗИМА
- 30.01.2026
-

Сумасшедшие дерутся голыми (из Гойи)
- ЗИМА
- 29.01.2026
-

Люди Павлова
- ЗИМА
- 28.01.2026
-

Секс по
- ЗИМА
- 27.01.2026
-

До почтальона
- ЗИМА
- 26.01.2026
-

Кожа тоже ведь человек
- ЗИМА
- 23.01.2026
-

Ридикюль
- ЗИМА
- 22.01.2026
-

Кроткие
- ЗИМА
- 21.01.2026
-

Месква
- ЗИМА
- 20.01.2026
-

Списать в море
- ЗИМА
- 19.01.2026
-

Молчальник
- ЗИМА
- 16.01.2026
Всё, что тут есть
- ОСЕНЬ
- 16.09.2024
- 440 Просмотры
- 0 Комментарии
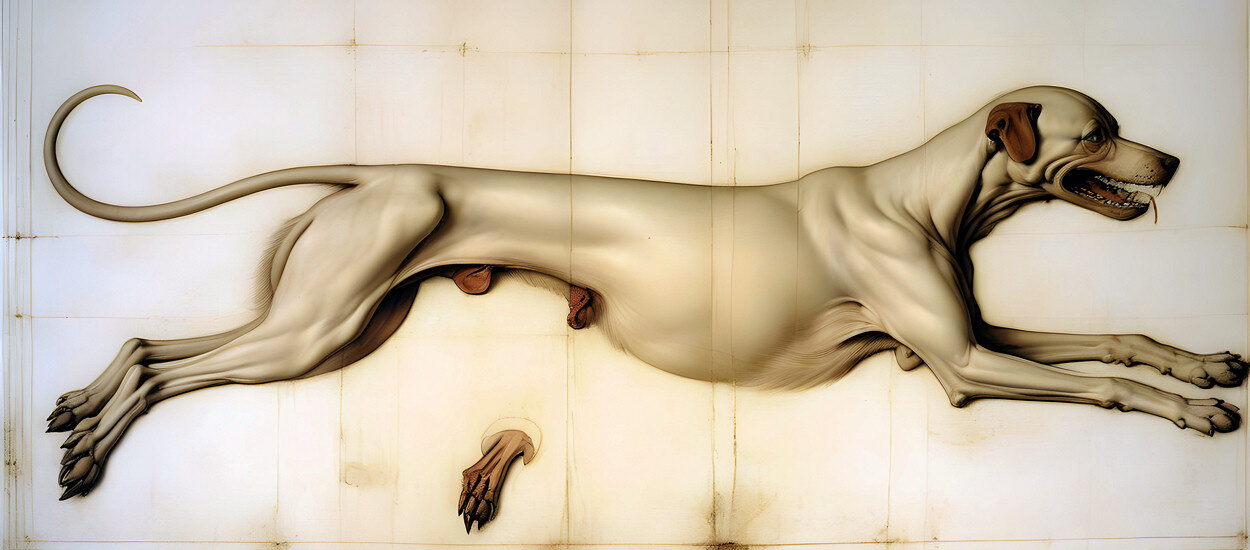
Распоследнее
-

Мусковские старости
- ЗИМА
- 02.02.2026
-

Грех повторения
- ЗИМА
- 30.01.2026
-

Сумасшедшие дерутся голыми (из Гойи)
- ЗИМА
- 29.01.2026
-

Люди Павлова
- ЗИМА
- 28.01.2026
-

Секс по
- ЗИМА
- 27.01.2026
-

До почтальона
- ЗИМА
- 26.01.2026
-

Кожа тоже ведь человек
- ЗИМА
- 23.01.2026
-

Ридикюль
- ЗИМА
- 22.01.2026
-

Кроткие
- ЗИМА
- 21.01.2026
-

Месква
- ЗИМА
- 20.01.2026
-

Списать в море
- ЗИМА
- 19.01.2026
-

Молчальник
- ЗИМА
- 16.01.2026
-

Снежная баба
- ЗИМА
- 15.01.2026
-

Детишкам принесла
- ЗИМА
- 14.01.2026
-

2πr
- ЗИМА
- 13.01.2026
-

Протез головы
- ЗИМА
- 12.01.2026
-

Правильно падать
- ЗИМА
- 09.01.2026
-

Метро Москвы
- ЗИМА
- 08.01.2026







