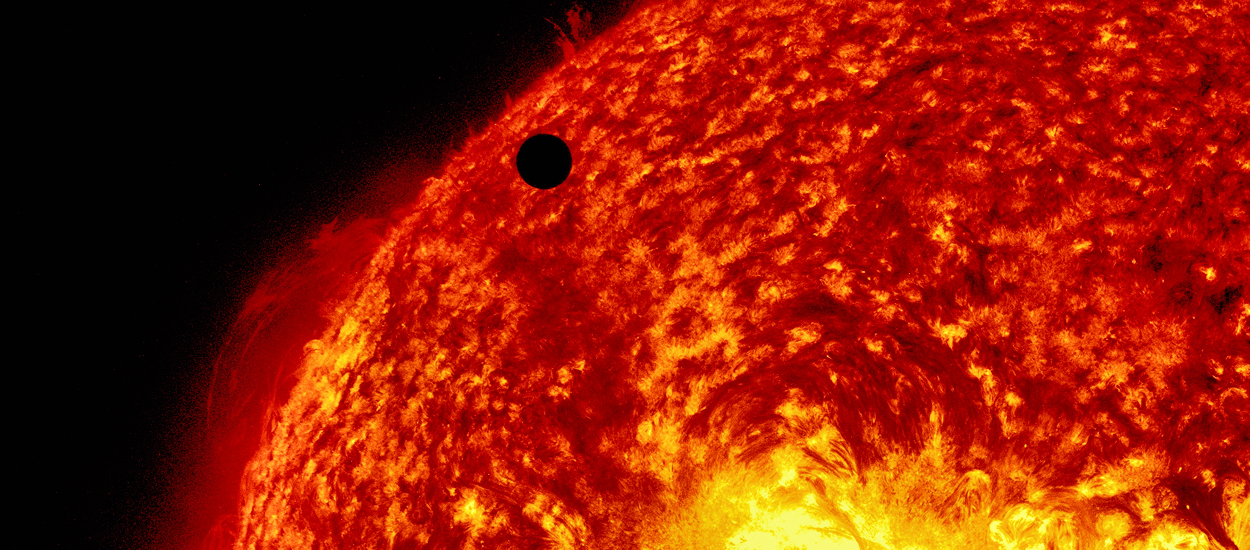Когда-нибудь и я произнесу
(улыбка, увлажняющая веру,
обычность предстоящего в басу):
«Лечу, не смейся только, на Венеру.
Так скоро, как совсем не ожидал…» —
Избитая до извинений фраза
и трубный глас, которыми квартал
бодрить до срока, тыча раз за разом:
вы атакованы, примите валидол.
И взгляд в ответ, и смех оторопелый,
столь заразительный, что упаду под стол,
и вот уже хохочем а капелла
вдвоём, а то и сам-третéй, раз воробьи
внимают стреляно десятым долям бела,
согнав себя на липы со скамьи,
да граждане проснутся оробело
и ну стучать ментам: тут смех в ночи.
И я узнаю, что смеюсь иначе,
а он услышит: «Только не учи,
как мне смеяться», а потом заплачем;
тут и портвейн закончится, и тишь
пред чем-то несусветным утвердится:
вдруг позвонит: «Ты, говорят, летишь?»
тот, с кем лет двадцать на ножах, ехидцы
в вопросе не замечу, рассмеюсь —
друг был один, и тот нашёлся, вот же!
«Ты будто не боишься». — Это Русь,
как не ходить в штаны… — «И я до дрожи».
И женщина придёт из-за реки,
с которой целовались, была осень,
и нет бы хохотнуть: «Ты береги
себя», допустим, — закричит: «Несносен,
зачем сейчас-то…» Будет это так:
на станции Ока спущусь к воде — и ноги
от наседающих со всех сторон собак
несносной старости и всей её мороки.
Ахдочегожтолстой.